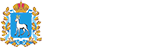Фортепианный голос фестиваля: Дерек Хан
На фестивале «Дни высокой музыки в Самаре» не соскучишьсяВедь каждый концерт, если, конечно, умеючи к нему подойти, – это страничка жизни, это пережитые в концентрированном виде эмоции, которых нам жизнь, увы, недодает. Радость, печаль, удивление, разочарование, усталость, наконец... Иногда – все подряд, сменяя друг друга. Странным хороводом вились эти «жизненные отголоски» на концерте американского пианиста Дерека Хана.
В первом номере своей со вкусом подобранной программы, в сонате Моцарта, Дерек Хан порадовал. Отличная выучка. Джульярдская школа, лучшее, что есть в Америке. Как говорили мы во времена Вана Клиберна (тоже выпускника Джульярда), лучшее потому, что с русскими традициями. А какие у нас традиции? Культура фортепианного звука. Звук должен петь, пианист должен преодолевать ударную природу своего инструмента, должен извлекать из пасти этого черного чудовища мягкие, нежные, протяжные звучания. Их извлекаешь – а они гаснут... Обидно!
Наверное, и Моцарт слегка обижался в своей ля-мажорной сонате. Каждые четыре такта в первой части – маленький вздох. Каждые восемь тактов – вздох большой. Дойдя до этого рубежа, оглянись, пианист, задумайся над превратностями жизни! Только что припля-сывала мелодия, а тут вдруг...
Рояль вздыхает. Дерек Хан вытягивает из россыпи маленьких, блестящих, круглых шариков живой голосок. Рояль вот-вот заплачет – а мы радуемся. Какой большой мастер этот пианист! Как умело, точно по форме и по мысли! И не засиживается на этих «вздохах» – как точно отмерено время замедлений, остановок, оглядок! А ведь фермата – это целое искусство. Тоже гордимся: кто, как не мы, русские, умеем с ними обращаться! Вот, например, Иван Семенович Козловский, великий русский тенор, – у него этими ферматами всё пересыпано! Возьмет звук – и тянет, пока у нас от удивления глаза на лоб не полезут! На рояле проще – длительность ферматы определяется не объемом легких, не дыханием певца, а гаснущим фортепианным звуком. Но не всё так механистично. Вот Иво Погорелич, хорватский пианист, удивляющий весь мир нестандартными интерпретациями известных вещей, дойдя до «вздохов» в ля-мажорной сонате, погружается в них в такую безнадежную печаль, в такую прострацию, что пугаешься: сейчас всё кончится, пианист без сил свалится под рояль, а объективный мир прекратит свое существование. Дерек Хан на полпути к этой печали и безнадежности. Вздох, реверанс... В первом четырехтакте покороче, во втором подлиннее... В шестнадцатом такте время растягивается еще побольше. Точно он работает с крохотными величинами, под микроскопом вытачивает свои ферматы.
И с педалью также точно и дифференцированно: наглядный и слышимый пример искусства педализации. Ведь знаменитые пианистические проблемы «полупедали», «четвертьпедали», о которых так любил рассуждать великий русский фортепианный педагог Генрих Густавович Нейгауз, у большинства так и остаются на уровне слов. Дерек Хан если уж применяет четвертьпедаль, то не ошибешься: стакан налит на четверть. А вот и эффект этой четвертьпедали: легчайшая звуковая вуаль окутывает прозрачное течение триолей и тридцатьвторых, связывает рассыпающиеся шарики мелодии. Полупедаль придает рассыпчатому набору мелких ноток странное звуковое обаяние – не то хаммерклавир поет, празднует свое тембровое торжество над клавесином, не то любимый моцартовский инструмент – кларнет...
Но вот окуляр микроскопа закрывается. Пианист промеряет крупные величины, выстраивает сонату в целом, все ее три части. Менуэт развивает кое-какие драматургические идеи первой части, финал – знаменитое «Турецкое рондо» – словно вырастает из Менуэта. Уж не буду углубляться в подробности, описывать, как первая вариация первой части продлевается в фа-диез-минорном эпизоде финала... До того ли нам? Пианист, кажется, точно знает, ЧТО и О ЧЕМ – то, что он играет. Ах, нет, вот еще очень яркое впечатление от его финала. После каждого раздела Моцарт помещает громкую мажорную тему. Она звучит как хоровой припев – подхватим все разом, вот и форте! Дерек Хан это форте играет не формально, он его интерпретирует, придает ему очень яркий смысл. Подает этот ля мажор торжественно, как гимн, слегка замедлив темп. Сцена словно освещается ярким светом. Под такую яркую кульминацию и мы должны бы что-то сделать. Полной грудью вдохнуть, набрав побольше воздуха... Встать – гимн ведь! (Чей гимн-то? Какого государства? Да фортепианного! Моцартовского!)
Очень красиво, очень точно, глубоко по мысли и изящно по способу выражения сделана соната Моцарта.
Но... Мир так устроен, что после каждого испытанного тобой приступа восторга кто-нибудь да окатит тебя ушатом ледяной воды. Бетховен. Да не Бетховен, конечно, ведро холодной воды вылил нам на голову. Дерек Хан. «Патетическая» соната Бетховена – всё так же продуманно, хорошо выстроено. Очень благополучное вступление — хотя, может быть, несколько формальное. Бурная первая тема – хотя, если бы я умела нести яйца, моя яичница была бы несколько иного вкуса... В частности, знаменитая серия разрешающихся тритонов — как-то он их смял. Яйца всмятку... А я, продолжая метафору, глазунью бы сделала. Начинается побочная тема – а я накануне обслушалась «Патетической», чтобы освежить в памяти, кто, собственно, как играет. И все время ловила себя на странном ощущении: вот и Рихтер побочную тему интонирует как-то не так... И великий Шнабель... И кого из великих ни послушаешь – всё что-то не то. Поневоле вспомнишь Льва Толстого, после первой брачной ночи записавшего в дневнике: «НЕ ТО!» Вот, наконец, слушаю не в виде звуковых консервов, а вживе, и поначалу довольна: вот у Хана, кажется, ТО. Полностью прослушивается нижний голос в диалоге баса с верхним голосом. Хорош и верхний голос сам по себе: ритмично так приплясывают эти форшлаги. Значит, ТО... То-то оно, конечно, то, но тоже почему-то не радует.
И дальше радует все меньше. Вторая часть. Молитва, возносимая за роялем фортепианному богу. Торжественный свет бемольных тональностей. Благоговение и трепет. Все-таки хотелось бы испытать хоть что-то из подобных чувств, а не просто следить за сменой красивых, более или менее качественно интонированных мелодий. В чем дело-то? Что за претензии к пианисту? Может, наш филармонический инструмент его сбивает, настроение портит? Знамо дело, не Карнеги-холл. Инструмент как инструмент, вот недавно Луганский вроде на нем же и играл. Но у каждого пианиста к рукам, как неснимаемые кандалы, как навечно пристегнутые наручники, словно свой инструмент прицеплен, со своим набором тембров. «Свой инструмент» Дерека Хана голосом обладает скромным, негромким, отчетливым. Этим голоском как произнести пламенные тирады Бетховена? Как передать ужас, бурю, катастрофы, блаженство?
Как зажечь «звезду», сияющую и поворачивающуюся в финале 21-й сонаты, – следующего номера его программы? Как погрузиться в таинственный пульсирующий мрак начала той же сонаты? Метнуть молнию, добить слушателя громом?
Шопен был сыгран с моцартовским изяществом. Два ноктюрна, скерцо си минор. Тщательно сделан. Кружевной выделки шестнадцатые. А судьба, романтический рок, болезнь, смерть, выси восторга, всплески отчаяния – это где-то в другом месте осталось. Впрочем, и в кружевах шестнадцатых кое-где непредусмотренные дырочки... Странно мне еще показалось, что по звуку (да и по темпам) один и тот же моток кружев пошел и на Моцарта, и на Бетховена, и на Шопена.
Наталья Эскина, музыковед, кандидат искусствоведения
«Свежая газета»
Программа
-
02 октября 2012, 18:30Открытие фестиваля. Звезды фестиваля Александр Гиндин и Дмитрий Коган в ослепительном дуэте
-
13 октября 2012, 18:30Симфонический концерт, посвященный творчеству современных композиторов-классиков
-
15 октября 2012, 18:30Впервые в Самаре! Московский мужской хор «Пересвет»
-
17 октября 2012, 18:30Концерт молодых российских музыкантов
-
18 октября 2012, 18:30Вечер фортепианной музыки. Впервые в Самаре блестящий американский пианист Дерек Хан
-
19 октября 2012, 19:00Феерический праздник для многочисленных поклонников знаменитого саксофониста
-
20 октября 2012, 18:30Закрытие фестиваля. Мастерство Зураба Соткилавы и вдохновение Дмитрия Когана оставят неизгладимый след в вашей душе на долгие годы!